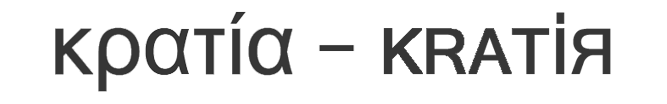Археология знания и «психическая история» Европы (значение работы Мишеля Фуко «Безумие и Неразумие. История безумия в классическую эпоху»).
Понятия «неразумия» и «безумия», их содержание и взаимоотношение являются самым глубоким смысловым уровнем «Истории безумия». В первую очередь следует рассмотреть содержание понятия «неразумие» (déraison), поскольку именно оно нуждается в прояснении. «Безумие» является во французском языке более «фиксированным» понятием, значение которого устанавливается через ссылки на клинические определения различных психических отклонений[1]. «Неразумие» представляется понятием менее определенным. Оно имеет, прежде всего, негативный смысл – лишенность разума[2].
В «Истории безумия» понятие «неразумие» имеет два статуса:
- Археологический. Это понятие принадлежит фукианской концепции истории, понимаемой как археология знания. Его можно рассматривать как понятийную инновацию раннего Фуко – «теоретика архива». Неразумие понимается здесь, прежде всего, как конечный смысл безумия в классическую эпоху[3] и как «фон», на котором возникает и кристаллизуется «безумие»[4].
- Философский. Статус понятия неразумия в рамках философской аналитики разума (обнаруживается в посткантовской философии: его можно найти в таких несхожих концепциях как «феноменология духа» Гегеля и «трансцендентальная феноменология» Гуссерля). Неразумие здесь – д р у г о е разума. Статус проявляется в сопоставлении терминов «опыт разума» и «опыт неразумия».
В «Истории безумия» достаточно много таких мест, где эти два статуса сосуществуют рядом (на одной странице, в рамках одного и того же аналитического хода) и даже тесно переплетаются между собой. Часто создается впечатление, что «археологический» смысл «неразумия» поглощается смыслом философским[5]. Наиболее характерным и существенным примером является анализ «безумия», в рамках которого присутствуют ссылки на «опыт». В книге можно часто встретить выражения – «классический опыт безумия» (т.е. опыт безумия в классическую эпоху), «опыт неразумия» или «опыт разума». Во многом именно благодаря тому, что понятие опыта оказывается, таким образом, если не центральным, то сквозным понятием книги, исследование Фуко оказывается прочно связанным с традицией философского трансцендентализма: «опыт» с необходимостью предполагает «субъект». Эту связь Фуко достаточно ясно осознал уже значительно позже выхода «Истории безумия», и он подверг эту составляющую своей работы суровой критике. В «Археологии знания» он писал: «В целом в “Истории безумия” уделяется слишком значительное и в то же время весьма загадочное место тому, что было обозначено в ней как «опыт», что демонстрирует, до какой степени мы были близки к тому, чтобы допустить анонимный и всеобщий субъект истории <…>»[6]. Отчасти суровость данной критики обусловлена тем, что во французских интеллектуальных кругах метод Фуко в этот период понимался как близкий структурализму. И одна из целей «Археологии знания» состояла в том, чтобы прояснить это недоразумение. Многие ее страницы написаны в виду этой задачи решительного размежевания со структурализмом[7]. Но также суровость самокритики Фуко обусловлена тем, что трансцендентализм, проникающий в «Историю безумия» вместе с понятием «опыт» и благодаря присутствию в понятии «неразумия» философско-трансцендентального смысла, затенял и делал неоднозначным его собственный «археологический» проект.

Первый статус «неразумия» проявляется в «Истории безумия» в различии «неразумия» и «безумия»[8]. Наиболее последовательно это можно пояснить на двух примерах.
Пример первый: случаи, когда Фуко ссылается на опыт литературы и искусства. Он получает в «Истории безумия» особую роль в отношении к «опыту Неразумия». На это обращает особое внимание Бланшо: «Исходя из чего – в пространстве, устанавливающемся между безумием и неразумием, – нам следует спросить себя, правда ли, что литература и искусство могли бы собрать этот предельный опыт и тем самым предуготовить за гранью культуры отношение с тем, что культура отбрасывает: речь границ, внеположное письму»[9]. Здесь может возникнуть вопрос: что это за «пространство между»[10] и почему литература и искусство получают выделенную роль в отношении к опыту неразумия? Ответ на этот вопрос можно получить только обратившись к смыслу связи и различия Безумия и Неразумия. «Пространство между», о котором говорит Бланшо, – это пространство, установившееся на основе опыта безумия в «классическую эпоху». Безумие, поначалу смешанное с другими формами «отклонений»[11] (то есть не существующее пока еще в качестве «безумия»), в конце концов, отделяется от них и наделяется статусом самостоятельного объекта. В этом заключается то эпохальное изменение, которое произошло в течение XVII-XVIII веков. Одной из сторон этой перемены является то, что неразумие и безумие оказываются расположенными на принципиально различных «уровнях» существования: в то время как в других формах неразумия классическая эпоха еще усматривает связь со свободой и рассматривает их в качестве социально обусловленных явлений, в безумии она уже не видит ничего, кроме исключительно природного процесса (отклонения в природе человеческого организма). В этом, в частности, состоит объективизм и детерминизм, присущий психиатрии классической эпохи. Литература и искусство избежали воздействия нормативных и разделительных процедур классической рациональности, которым подверглись социальное поле (в форме практик изоляции и клинификации) и научный аппарат (в форме психиатрического дискурса). В силу своей непричастности к нормализующей деятельности классического разума они сохранили связь со специфическим опытом свободы, который был присущ опыту неразумия до тех изменений, которые были произведены механизмами классической эпохи. И самое важное: только литература и искусство сохранили способность выражать неразумие на его собственном языке. Все остальные формы выражения несут на себе печать объективизма: они очень многое могут говорить о неразумии, но в этой речи нет места голосу безумия, она представляет собой, по выражению Фуко, «монолог разума о безумии». Конечно, речь идет не о каких угодно литературе и искусстве. Те их проявления, которые значимы в этом отношении, отмечены именами Ван Гога и Гойи в живописи, Гёльдерлина, Нерваля, Арто в литературе.
Пример второй: роль психоанализа в «Истории безумия». На особое отношение Фуко к психоанализу задолго до Деррида обратил внимание также Бланшо: « <…> после того, как позитивистская психиатрия навязала психическому расстройству статус объекта, который его окончательно расстраивает и отчуждает, является Фрейд и пытается «вновь столкнуть друг с другом безумие и безрассудство и восстановить возможность диалога»»[12]. Употребленные здесь русским переводчиком книги Бланшо В. Лапицким слова «столкнуть» и «безрассудство» вводят в заблуждение относительно той операции, которую закрепляет за психоанализом Фуко в своем исследовании истории безумия. Во французском тексте сказано «réaffronter folie et déraison», что можно бы было перевести как «вновь сблизить края (или – «установить на одном уровне») безумия и неразумия». Согласно Фуко, позитивистская психиатрия продолжает процесс, начатый классической эпохой. Позитивистский анализ явлений безумия двигается в намеченном ею русле детерминизма и объективизма. Фрейд совершает определенный поворот, вновь открывая в некоторых формах безумия его связь с судьбами свободы и общества, – то, что было постепенно утрачено в классическом опыте безумия.
Теперь нужно на конкретных примерах проиллюстрировать ту роль, которую играет в «Истории безумия» понятие «опыт». Для этого мы обратимся к текстам Фуко, которые можно бы было назвать «текстами самоинтерпретации».
Большое внимание толкованию собственного творчества Фуко начинает уделять уже с конца 60-х годов. До самой смерти, т.е. на протяжении почти 25 лет, в беседах и интервью, опубликованных в течение его жизни в различных французских и зарубежных изданиях, он посвящает объяснению смысла своей работы многочисленные и развернутые рассуждения. Эту часть творчества Фуко нельзя недооценивать. Не стоит полагать, что эти тексты являются побочным явлением, поскольку инспирированы журналистами или околофилософской «публикой». Нужно думать, скорее, наоборот: устойчивая повторяемость возвращения Фуко к своим различным исследованиям (в результате которой подобные тексты образовали целый самостоятельный слой в его наследии) позволяет предположить, что «самоинтерпретация» не была обусловленна случайным интересом собеседников. Воздействию этой интерпретативной работы подверглось большинство его книг. И «История безумия» не стала исключением.
В беседе, опубликованной под названием «Забота об истине», которая состоялась в 1984 году незадолго до смерти Фуко, мы находим его важное рассуждение о месте «Истории безумия» в общем археологическом проекте. Он проводит параллель между исследованием сексуальности, цель которого – показать «как управляют собой» (в частности, в античности), и исследованием безумия, которое должно было ответить на вопрос: «как управляют сумасшедшими». И вот самое важное добавление: «<…> и в случае безумия, идя от того, что оно представляет для других, я пытался подобраться к конституированию особого рода опыта – опыта самого себя как сумасшедшего, – опыта как он складывался внутри душевной болезни, в рамках психиатрической практики и института психиатрических лечебниц»[13]. Чуть ниже он говорит о том, что видит в сопоставленных работах два противоположных способа ответить на один и тот же вопрос: «как формируется такой «опыт», внутри которого отношение к себе и отношение к другим оказываются связанными». Анализ, развернутый в «Истории безумия», движется от «безумия» как социальной, политической и эпистемологической проблемы к «безумию» как определенному «опыту». В исследовании сексуальности представлено обратное движение – от сексуального поведения как проблемы самих индивидов к формированию определенных общественно значимых установлений, касающихся сексуальности в области морали.
Другое важное указание на смысл исследования безумия содержится в беседе «Власть и знание», относящейся к последнему периоду творчества Фуко. «О чем же идет речь в “Истории безумия”? О попытке установить не столько тип познания, сложившийся у нас в связи с умственными расстройствами, сколько тип власти, которую разум, начиная с XVII века и по сию пору, беспрерывно осуществляет над безумием»[14].
Приведенные высказывания позволяют сделать некоторый вывод относительно того, какие положения «Истории безумия» являются ключевыми для понимания смысла этого исследования с точки зрения самого Фуко. Следует выделить, во-первых, понятия «управление» (gouvernement) и «власть» (pouvoir), которые являются важнейшими элементами творчества Фуко в средний и поздний период, и, во-вторых, смысловую оппозицию «иметь опыт себя» – «представлять нечто для других». Также важно обратить внимание на то, что Фуко придает несколько большее значение типу власти по сравнению с типом познания.
На основании приведенных высказываний можно составить следующую картину общей конструкции «Истории безумия»: по одну сторону находятся «власть», «управление» и «представления других», по другую – некоторый «опыт самого себя как сумасшедшего». Между этими двумя сферами существует определенная связь, прояснение которой и является одной из существенных задач книги. Эта конструкция является, с одной стороны, ядром самого исследования безумия, с другой, – той нитью, которая связывает это исследование с другими.
Попробуем проиллюстрировать и раскрыть смысл приведенных импликаций «Истории безумия», исходя из ее некоторых конкретных положений. На протяжении всей книги красной нитью проходит мысль о том, что в классическую эпоху существует определенный дисбаланс между двумя сферами существования безумия – практической и теоретической[15]. В качестве иллюстрации можно привести цитату, в которой уже ближе к концу книги как бы суммируется и обобщается проанализированный до этого материал. «Долгое время медицинская мысль и практика изоляции оставались чужды друг другу. В то время как познание душевных болезней развивалось по своим собственным законам, в мире классической эпохи постепенно укоренялся конкретный опыт безумия, чьим символом и фиксирующим моментом служила изоляция»[16]. На протяжении почти полутора веков никто не задавался вопросом, действительно ли безумен человек, подвергающийся изоляции, почему он безумен и что вообще значит быть безумным. И в то же время отсутствие какого бы то ни было теоретического обоснования практики изоляции не порождало сомнений в ее значении. Таким образом, с самого начала в классическом опыте безумия было заложено определенное превосходство практической составляющей. Поэтому для того, чтобы понять его сущность, в первую очередь необходимо проанализировать, каким образом создавалось «пространство отчуждения», конкретным воплощением которого являлась практика изоляции[17]. Нужно уточнить, что Фуко называет «практикой изоляции» и какие черты позволяют ему использовать для описания ее антропологической сущности понятие «отчуждение». Но сначала необходимо указать, чем является «изоляция» с исторической точки зрения, то есть каковы временные границы, задающие историческую логику его анализа. Период изоляции охватывает временной промежуток, начиная с середины XVII века, когда в Европе в целом сложилась система помещения людей, признаваемых «асоциальными», в тюрьмы, приюты и т.п. (Общий госпиталь в Париже, исправительные дома в Германии и Франции). Его окончание совпадает с реформами Тьюка и Пинеля (осуществленными в течение 1780-1793 гг.), в результате которых предшествующая социальная форма распадается, и в Англии и Франции возникают особые заведения, ставшие прообразом специализированных психиатрических клиник. Вот основные черты «изоляции»:
- «Безумия» в этот период еще не существует. Наглядным примером этого служит список «асоциальных элементов», в одном ряду с которыми находились безумные[18].
- «Изоляция» – это сегрегация. Ее смысл – удаление из общества всех проявлений, которые представляют угрозу его основам. В первую очередь цели, преследуемые практикой изоляции, носят исправительный, а не терапевтический характер. «Задача изоляции – исправить человека; для этого отводится определенный срок, в течение которого он должен не выздороветь, но скорее прийти к мудрому раскаянию»[19].
- Поэтому между исправительным домом и будущим психиатрическим заведением мало общих черт. Только в немногих из так называемых «госпиталей» предусматривались собственно медицинские мероприятия по отношению к сумасшедшим.

С появлением первых специализированных клиник для сумасшедших период изоляции как будто завершается. Создание психиатрических заведений традиционно рассматривается как возникновение более гуманного отношения к «безумным». Действительно, именно это намерение преследовали «реформаторы» – сделать условия их существования более благоприятными. Однако анализ Фуко приводит его к другому выводу: отчуждение не только не исчезает, но и «удваивается».
Классическая эпоха и присущий ей специфический «опыт безумия» оформляются двумя этими вехами. Между ними разворачивается определенная история, процесс, приведший к возникновению того образа безумия, который был унаследован модерном, где он уже принимается почти что «на веру», а отношение «безумие» устанавливается в качестве некоторой матрицы. Устойчивость этих образований оказывается незыблемой: с некоторыми изменениями они существуют и по сей день и пошатнуть их в некоторой степени удалось лишь Фрейду и некоторым новейшим исследованиям в области нейрофизиологии. В саму же классическую эпоху этому процессу были присущи определенные противоречия и своеобразная динамика. Фуко описывает ее очень подробно, приводя множество примеров из различных источников. Один момент можно выделить в качестве ключевого: «перемещение» безумия из сферы человеческой свободы в сферу детерминизма природы.
Практика изоляции сумасшедших наряду с другими «асоциальными элементами», распространившаяся повсеместно в Европе, отмечает одну очень существенную особенность «классического опыта безумия». Она состоит в том, что «безумие» долгое время было наделено этическим значением: тот факт, что сумасшедшие подвергались изоляции вместе с развратниками и либертенами, свидетельствует о том, что оно связывалось с виной и неправильным употреблением свободы! Постепенно происходит его отделение от других форм неразумия, и оно появляется в качестве отдельного объекта. Этот процесс сопровождается исключением из «опыта безумия» всего того, что связывало его с неразумием, и в первую очередь – этического значения. Формируется определение безумия как особой болезни, точнее говоря, особого рода болезней, поражающих душу, но имеющих происхождение в теле, то есть как явления, обусловленного процессами внутри «организма». Описываются причины этих болезней и создаются их классификации. И все это указывает на то, что из явления, принадлежащего порядку свободы, «безумие» постепенно закрепляется в порядке природы. Процесс завершается его превращением в объект клинического наблюдения. И в этот момент в «классическом опыте безумия» начинает доминировать медицинская форма истины.
Приведу цитату с тех страниц «Истории безумия», где подводится итог первой части, посвященной практическому опыту безумия, выраженному практикой изоляции: «В наши дни мы привычно воспринимаем безумие как низвержение в пространство детерминизма, где постепенно уничтожаются любые формы свободы; мы видим в нем лишь детерминизм с его природными закономерностями, причинно-следственными связями и дискурсивным движением форм; ибо современному человеку безумие грозит лишь этим возвратом в угрюмый мир животных и вещей с их крайне ограниченной свободой. Но в XVII-XVIII веке безумие воспринималось не в перспективе природы, а на фоне неразумия; в нем открывался не механизм, а скорее именно свобода, в неистовстве своем принявшая чудовищные звериные формы»[20].
Медицинская истина смогла утвердиться только после того, как тот опыт, в котором «безумие» было частью более общего мира неразумия, был полностью забыт. Поэтому в медицинском и клиническом опыте безумия невозможно найти никаких следов предшествующего ему опыта. Клиника является замкнутой формой, куда не проникает никакая другая истина, которая свидетельствовала бы о ее условности: ничто в ней не указывает на то, что своему возникновению она обязана исключению и отбрасыванию определенных значений и даже определенному, занявшему несколько веков, подавлению других видов опыта.
Вернемся теперь к вопросу, почему, с точки зрения Фуко, нельзя говорить, что с появлением специализированных клиник отчуждение, которое составляло антропологический фундамент «опыта безумия» в период изоляции, преодолевается. Ведь проанализировав динамику процесса изменения отношения к «безумию» (от рассмотрения его на общем фоне неразумия к выделению его в отдельный изолированный объект), он делает однозначный вывод: отчуждение не только не исчезает, оно становится еще более масштабным. Клиника – это более изощренная форма отчуждения. Она делает его тотальным: здесь истина безумия не только отделяется от истины остального мира, но и «раскалывается». В структуре изоляции «безумный» был отчужден от общества, но он не был отчужден от самого себя. Поскольку на него возлагалась определенная этическая ответственность, он тем самым имплицитно признавался творцом и обладателем собственного «безумия», носителем его истины. В структуре клинификации он подвергается двойному отчуждению: теперь он не только изолируется от общества, но и отчуждается от самого себя. «Безумие» понимается уже не на фоне свободы, а исходя из детерминизма природы, – «безумный» не рассматривается в качестве обладателя собственной истины. Она передается в руки Другого, символизируемого фигурой врача. Так завершается еще один процесс, определяющий антропологическую сущность классической эпохи: смена режимов понимания «Другого». В период, когда еще была распространена практика изоляции, смысл Другого уже располагался в двух различных сферах.
1) Там, где «безумие» формировалось в рамках юридических определений и понималось как правовая недееспособность. Именно здесь зарождалась «клиническая» истина: поскольку медицинские определения были призваны обслуживать юридическую дисквалификацию безумия, постольку безумный отдавался на попечение других.
2) Там, где оно рассматривалось как нарушение нормы. Это собственное измерение, в котором существовало «безумие» в рамках практики изоляции. Здесь «безумный» сам понимался как Другой.
Смена практики изоляции практикой клинификации сопровождается почти полным исчезновением из «опыта безумия» второго смысла, в соответствии с которым быть Другим значило обозначать границу своего собственного существования изнутри установленной «полноты истины». В структуре изоляции «безумный» приравнивался к богохульнику или расточителю: он демонстрировал иное («неправильное») отношение к своему разуму, в то время как они – соответственно, к Божественной истине или богатству. Этот Другой был неузнаваемым и поэтому вселял страх или тревогу. Вот почему он подвергался изоляции: она должна была заставить его образумиться. Наступление периода клинификации означает, что доминирующими становятся юридическое и медицинское понимание «безумия». А это значит, что совершенно изменился смысл Другого: он потерял практически все признаки свободной, пусть и не признаваемой в рамках нормы, «субъективности». В строгом смысле слова пациент – это уже не Другой. Это тот, кто сам передан во власть «Большого Другого», символизируемого фигурой врача.
Итак, можно подвести предварительный итог и установить соответствие между основными понятиями истории «практик» (используя язык позднего Фуко, – «форм власти») и понятий истории «опыта себя»: в структуре изоляции «безумие» – это неправильное употребление свободы, а «безумный» – это Другой; в структуре клинификации – соответственно, «болезнь» и «объект наблюдения». В первом случае «безумный» отчуждается от общества жестом изгнания за его пределы, но остается носителем собственной истины; во втором – отчуждение удваивается: он остается изолирован от общества, а истина его безумия передается Другому.
Антропологический анализ темы «отчуждения» и «Другого» дополняет исследование значения понятия исключения. Оно вводится в рамках другого более обширного понятия эпохи, задаваемого уже самой формулировкой темы: «история безумия в классическую эпоху». Вот цитата[21], отражающая эту общую «перспективу»: «Безумие было, с одной стороны, всецело исключено из мира, а с другой – всецело объективировано, но никогда не было явлено само по себе, говорящим на своем собственном языке»; « <…> безумие в классическую эпоху хранит глубочайшее молчание и поэтому кажется впавшим в спячку»[22].
Здесь содержатся основные моменты, которые фактически целиком задают основной смысл проблемы безумия, как она ставится в рамках вопроса о «классической эпохе». Их стоит выделить отдельно:
- Исключение. Понятие «исключение» является ключевым не только для «Истории безумия», но и творчества Фуко в целом[23]. На это указывают российские исследователи творчества Фуко[24].
- Объективация. Это понятие выражает два процесса, близких, но не сводимых полностью один к другому: а) превращение в объект и б) возникновение объекта. Безумие возникает как объект, которого до этого не существовало, в тот момент, когда складывается такое отношение к определенному опыту (опыту неразумия), в котором он рассматривается как объект. Говоря несколько упрощенно, неразумие, ставшее объектом, – это возникшее в качестве объекта безумие.
- Молчание. «История безумия», по выражения самого Фуко, – это «археология молчания». Одно из положений книги звучит так: «голос разума основан на молчании безумия».
Эти три момента достаточно тесно связаны друг с другом. Однако основное внимание необходимо сосредоточить на одном из них – исключении[25], поскольку оно играет главную роль с точки зрения анализа понятий разума и неразумия в Новое Время, когда возникают «ratio» и «безумие». Подобные изменения и составляют философский смысл эпохи, в данном случае – классической эпохи.
Что такое эпоха? Как она оформляется, из чего складывается ее «эпохальность», ее отличие и особенность, позволяющие говорить о ней как об отдельном временном срезе? Ответ на этот вопрос можно сформулировать таким образом: эпохе свойственно устанавливать определенные правила и производить определенные операции, которые выделяют одни элементы опыта за счет затенения и вытеснения других. Так образуется истина, которая составляет содержание и смысл эпохи. Классическая эпоха, например, оформляется операцией исключения, а внутри этой общей «эпохальной» формы складывается истина безумия как неразумия[26]. Подобная трактовка вступает в противоречие с представлением об эпохе как последовательном, линейном разворачивании истины. Конечно, можно допустить, что движение классической эпохи вырисовывает «прямую, по которой рациональная мысль движется к анализу безумия как душевной болезни (maladie mentale)». Однако «археологический» анализ устанавливает, что эта прямая является вертикалью: рациональный «опыт безумия» возникает и становится доминирующим за счет и по мере подавления, все более и более глубокого, трагического опыта неразумия (трагический опыт еще проявится, – замечает Фуко как бы на полях, – в некоторых идеях Ницше и Фрейда, но произойдет это уже после того, как классическая эпоха окончательно вытеснит его за границу культуры). Подавление начинается еще задолго до классической эпохи. Первый шаг на этом пути был сделан Возрождением, противопоставившим трагический опыт неразумия и критическое сознание в виде двух несводимых сфер – визуальной и дискурсивной. В первой из них – «бесконечное безмолвие образов» (представленное живописью XV века – Босх, Брейгель, Дирк Боутс, Дюрер), открывающее взгляду «непостижимую чуждость мироздания». Во второй – нравственная речь (она представлена в гуманистической традиции, в частности, в сочинениях Эразма Роттердамского), разоблачающая неразумие как человеческую глупость, рассеивающую свои чары под взглядом мудреца и философа. Местом существования неразумия оказывается, таким образом, именно критическое сознание. На пороге классической эпохи – в период барокко – этот процесс принимает более четко выраженную направленность: неразумие фигурирует уже в рамках доминирующей темы обманки (trompe-l’œil) и определяется как иллюзия.
 И вот перед нами совершенно новая картина: неразумие нигде не проявляется, его уже почти невозможно заметить. В отличие от Возрождения, которое еще знало опыт «неразумного Разума и разумного Неразумия», классическая эпоха производит процедуру разделения и проводит границу. Отныне не будет никакой возможности сообщения и обмена между разумом и неразумием. Цель, которую преследует эта процедура, – достичь чистой формы разума, из которой было бы исключено все, что на протяжении долгого времени (от Средних Веков до Возрождения) делало его лишь одной стороной общего опыта. Процедура разделения – это действие самого разума, стремящегося к абсолютной автономии. Для того чтобы ее достичь, он должен избавиться от того, чем он не являлся, но без чего он был лишь половиной истины. Этим двойником разума на протяжении многих веков и было неразумие. Вместе они составляли единую конфигурацию истины. Теперь же разум будет сам определять свой собственный образ и свою собственную форму. Можно сказать, что трансформируется сам разум, но нужно добавить, что изменяется также и конфигурация истины: если раньше она возникала в процессе взаимообмена между двумя неравными сферами опыта, то теперь одна из них охватывает все ее возможные явления. Единственной формой истины становится разум. Все то, что относится к области неразумия, занимает место по ту ее сторону. Происходит переворот, в результате которого к власти приходит ratio, или разум в его чистой форме. Одна сторона этого переворота – изменение конфигурации истины. Другая сторона – исчезновение неразумия. Но неразумие не просто «растворяется», как если бы в мире и в опыте не оставалось больше ничего смутного, неясного и тревожного. Исчезновение неразумия – это как бы стирание прежних очертаний той формы, в которой оно участвовало в процессе образования истины. Но появляется его новый образ и возникает новое понятие. С его помощью весь опыт, относящийся к неразумию, охватывается в той форме, которая отвечает требованиям нового способа образования истины, – требованиям, которые ставит ratio. Это понятие – «безумие». В этом смысле исчезновение неразумия означает, что значительно изменяется не только форма, но и структура образования истины: раньше неразумие было «субъектом» (одним из двух равноправных «субъектов») истины, теперь же оно превращается в объект истинных высказываний (неразумие становится «безумием»). Единственным субъектом истины становится разум[27].
И вот перед нами совершенно новая картина: неразумие нигде не проявляется, его уже почти невозможно заметить. В отличие от Возрождения, которое еще знало опыт «неразумного Разума и разумного Неразумия», классическая эпоха производит процедуру разделения и проводит границу. Отныне не будет никакой возможности сообщения и обмена между разумом и неразумием. Цель, которую преследует эта процедура, – достичь чистой формы разума, из которой было бы исключено все, что на протяжении долгого времени (от Средних Веков до Возрождения) делало его лишь одной стороной общего опыта. Процедура разделения – это действие самого разума, стремящегося к абсолютной автономии. Для того чтобы ее достичь, он должен избавиться от того, чем он не являлся, но без чего он был лишь половиной истины. Этим двойником разума на протяжении многих веков и было неразумие. Вместе они составляли единую конфигурацию истины. Теперь же разум будет сам определять свой собственный образ и свою собственную форму. Можно сказать, что трансформируется сам разум, но нужно добавить, что изменяется также и конфигурация истины: если раньше она возникала в процессе взаимообмена между двумя неравными сферами опыта, то теперь одна из них охватывает все ее возможные явления. Единственной формой истины становится разум. Все то, что относится к области неразумия, занимает место по ту ее сторону. Происходит переворот, в результате которого к власти приходит ratio, или разум в его чистой форме. Одна сторона этого переворота – изменение конфигурации истины. Другая сторона – исчезновение неразумия. Но неразумие не просто «растворяется», как если бы в мире и в опыте не оставалось больше ничего смутного, неясного и тревожного. Исчезновение неразумия – это как бы стирание прежних очертаний той формы, в которой оно участвовало в процессе образования истины. Но появляется его новый образ и возникает новое понятие. С его помощью весь опыт, относящийся к неразумию, охватывается в той форме, которая отвечает требованиям нового способа образования истины, – требованиям, которые ставит ratio. Это понятие – «безумие». В этом смысле исчезновение неразумия означает, что значительно изменяется не только форма, но и структура образования истины: раньше неразумие было «субъектом» (одним из двух равноправных «субъектов») истины, теперь же оно превращается в объект истинных высказываний (неразумие становится «безумием»). Единственным субъектом истины становится разум[27].
Идеи «Истории безумия» получили развитие в ряде последующих работ Фуко. Особый интерес представляет работа «Les anormaux». Но прежде чем перейти к анализу ее содержания, необходимо сказать несколько слов о ее статусе в корпусе текстов Фуко в целом. Не только его знаменитые книги, такие как «История безумия», «Надзирать и наказывать», «Слова и вещи», «История сексуальности» принесли ему мировую известность. Во многом она возникла под влиянием его лекций и преподавательской деятельности, которую он вел в Коллеж де Франс. В святая святых французской Академии Фуко вступил 2-го декабря 1970 года, произнеся свою знаменитую речь «Порядок дискурса» и официально возглавив кафедру «Истории систем мысли». Она была учреждена вместо кафедры «Истории философской мысли», оказавшейся вакантной после смерти 27 октября 1968 года возглавлявшего ее Ипполита[28]. Название было предложено самим Фуко, который в заключении своего конкурсного проекта, представленного в коллегию профессоров Коллежа, написал: «<…> нужно заняться историей систем мысли». С этого момента вплоть до своей смерти он каждый год читал отдельный новый курс. Каждый из них, согласно уставу данной институции должен был не просто повторять уже проделанную и опубликованную работу, но отражать и представлять текущие исследования. При жизни Фуко написанные им краткие содержания курсов издавались отдельно в ежегодниках Коллежа. После его смерти они были изданы отдельно под названием «Résumé des cours». Также выдержки из них публиковались на страницах периодических изданий в виде цитат в посвященных Фуко статьях[29], а также включались в книги, представляющие собой переводы его работ на другие языки[30]. Аудио-видеозаписи курсов хранятся в архивах Центра Мишеля Фуко, с 1998 года содержащихся в IMEC[31]. Фактически все курсы на сегодняшний день уже опубликованы в виде отдельных изданий. В их число входит и «Les anormaux», курс, прочитанный Фуко в 1974–1975 учебном году и изданный в 1999 году. В нем развивается «археологическая» концепция разума и идея исключения как установления границы, а также по-новому определяется само понятие границы. На основании «Истории безумия» можно заключить, что, начиная с XVII-го века, европейский разум (ratio), утверждая свою автономию, устанавливает собственную границу, отделяя и исключая все то, что не отвечает условиям, определяемым им в качестве основы своего существования. Эта диалектика разума и его иного (неразумия) (имеющая в некоторых чертах сходство с гегелевской диалектикой сознания и самосознания) составляет философский фундамент книги «История безумия». «Les anormaux» во многом наследует проблематику «Истории безумии» и ее основные положения, перенося акцент уже не на диалектику Тождественного и Иного, а на генеалогию Того же Самого[32]. Однако эта работа может быть рассмотрена не только в отношении наследования, но и в отношении предвосхищения. Так, в ней определенным образом уже затрагивается проблематика, которая будет находиться в центре других знаменитых исследований Фуко – «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» (1975) и «История сексуальности» (1976 –1984). Смысловые линии, которые развиваются Фуко в его наиболее известных исследованиях отдельно, в «Les anormaux» образуют единый смысловой узел. И та «точка», которая позволяет свести в этой книге воедино различные векторы исследований, – это проблема исключения. Если вышеупомянутые работы рассматривают отдельные виды объектов и форм исключения («Надзирать и наказывать» занимается отношением преступления (и преступника) и тюремного наказания, «История безумия» – отношением безумия (и сумасшедшего) и психиатрического лечения, «История сексуальности» – отношением извращенного желания (и перверта) и семьи), то в «Les anormaux» Фуко занимается определением исключения как такового. Определение вырабатывается в результате исследования отношения нормы к тому, что находится за ее пределами. Прежде чем перейти непосредственно к центральной теме данного исследования, следует также упомянуть другие представленные в нем векторы, которые являются доминантными для всего творчества Фуко. Прежде всего – это анализ точек переплетения «дискурса» и «практики», а также – «технологий власти» и «техник преобразования индивидов».
Нужно ответить на вопрос, кто же, в сущности, такие эти «anormaux»? Прежде всего, следует обратить внимание на первое появление этой фигуры в исследовании Фуко. Где он находит этого «персонажа» как актуально существующего, в какой области обнаруживается его присутствие в современности? В сфере судебно-медицинской экспертизы. После такого впечатляющего предъявления образа «анормальных» Фуко ставит вопрос: как получилось, что дискурс, дающий им существование и его поддерживающий (дискурс, являющийся одновременно дискурсом истины и дискурсом, вызывающим смех[33], то есть, – по природе своей гротескный[34]), является практически незаметным, несмотря на то, что он прочно вошел в ткань нашего повседневного существования? А, между прочим, замечает Фуко, этот дискурс способен убивать, – почему же тогда в современной теории ему уделяется так мало места? Потому что «anormaux» – это те, кто отсутствует рядом. Мы не разделяем с ними общего места, поэтому нужно выработать дополнительную аналитику, чтобы обнаружить способы, которыми создается Другой. Мы находимся по эту сторону, а он – по ту, а разделение производится посредством нормы, которая является не просто разделяющей границей, но сетью установок (как теоретических, так и практических, институциональных). И для нас, находящихся здесь, эта сеть невидима как таковая, а видимо только то, что ею создается, – «анормальные», и видимы они лишь постольку, поскольку дистанция, разделяющая нас и их, абсолютна и непреодолима. Исследование «Les anormaux» и представляет собой разработку такой аналитики.
В третьей лекции, а также в резюме данного курса Фуко дает набросок конкретной, или исторической, генеалогии «анормальности», выделяя три элемента, из которых образовались «анормальные как группа»[35] (следует учитывать, что, как отмечает Фуко, «ее становление не являлось одновременным»[36]):
- «Человек-чудовище». Референтной базой этого понятия является закон, однако закон в широком смысле слова: «самим своим существованием и внешним обликом чудовище нарушает не только законы общества, но и законы природы»[37]. Это понятие юридически-биологическое. Две вещи автоматически ставят его вне закона и переносят «по ту сторону»: а) чудовище не может быть субъектом закона, поскольку закон не может говорить о нем и учитывать его существование; б) чудовище – это естественная форма противоестественного и предельный образец любого самого мелкого отклонения (так, психиатрическая экспертиза XIX-XX-го века будет искать за мелким воришкой великое природное чудовище).
- «Индивид, подлежащий исправлению». Это понятие более позднее, чем «чудовище», и соотносится оно, в первую очередь, не с «императивами закона и каноническими формами природы, а с техниками выучки (dressage) с их собственными требованиями»[38]. Одновременно с созданием в рамках армии, школы, мастерской, церковного прихода техник дисциплины в XVII-XVIII веках возникает и фигура «неисправимого», – для кого эти техники оказались недейственными и для кого, следовательно, требуются дополнительные технологии. Так складывается фон для той игры исправимости и неисправимости, которым будет характеризоваться существование «анормальных».
- «Ребенок-мастурбант». Это самый поздний из трех предшественников «анормальных». Он появляется в рамках института семьи в конце XVIII века, а его значение для генеалогии анормальности состоит в том, что с этого времени детская мастурбация начинает признаваться универсальным объяснительным принципом любых частных патологических отклонений.
До конца XVIII-начала XIX-го века, согласно Фуко, эти фигуры существуют совершенно обособленно, и только тогда, когда «будет налажена устойчивая сеть знания и власти, которая эти три фигуры объединит или, по крайней мере, осмыслит согласно общей системе установок» и возникнет «технология анормальных индивидов»[39].
Все основное содержание книги «Les anormaux» представляет собой развернутую экспликацию этой конкретной генеалогии «анормальности». Но в каждом конкретном случае, на примере каждого отдельного элемента Фуко обнаруживает общие черты, свойственные тем процедурам, которыми он устанавливается в существовании, – каждый пока в своем поле. Очень схематично эти черты можно сгруппировать в несколько общих свойств, как раз и характеризующих их как генеалогические свойства «анормальных». Выделение этих свойств можно бы было назвать «общей генеалогией анормальности».
1) Все элементы, которые являются «предками» «анормальных», не рассматриваются как свойства субъекта (свойства среди прочих свойств), они выпадают из процесса субъективации.
2) Они не вписываются полностью ни в один из существующих общественных институтов и разработанных в их рамках дискурсов или практик: они как бы взламывают границы действующей институциализации.
Таким образом, данное исследование развивает антропологический анализ, присутствующий в «Истории безумия». Ведь фактически «anormaux» вводится как термин, относящийся к различным формам дисквалифицированных объектов (не только к «безумным»). Это как бы мета-дисквалифицирующее понятие, призванное представить действие нормы как таковой или, как выражается Фуко, «власти нормализации» в ее предельно общем виде.
«История безумия» и представленные в ней идеи получили широкий отклик философской общественности. Ей было посвящено достаточно большое количество работ, в которых она рассматривалась как отдельно, так и в контексте всего творчества Фуко. Именно этой книге уделяли большое внимание различные критики концепции археологии знания, в число которых входит и Деррида. Его статья «Cogito и “История безумия”» может быть рассмотрена в ряду посвященных Фуко публикаций, написанных философами, создавшими свои собственные, тоже достаточно влиятельные концепции. Среди них стоит выделить работы исследователей, влияние которых приближается или сравнимо с тем воздействием, которое оказал на мировую мысль Фуко. К числу подобных работ, в первую очередь, относятся книги французских философов: «Мишель Фуко, каким я его себе представляю» Бланшо, «Фуко» Делеза, «Забыть Фуко» Бодрийара. Они представляют рецепцию археологии знания в новейшей французской философии. Собственно статья Деррида стоит среди них особняком, поскольку была написана, когда Фуко издал только первое свое большое исследование, а теория «деконструкции» только начинала складываться. Поэтому она является не реакцией на археологию знания как таковую, а лишь критикой некоторых положений книги «История безумия в классическую эпоху». Из перечисленных работ ближе всего к статье Деррида стоит работа Бодрийара. Книги Бланшо и Делеза существенно отличаются от них отличаются.
Бланшо пишет, скорее, не критику, а «вариации на тему Фуко». Он делает акцент на «сцепленности» различных фукианских мотивов и понятий и их развитии от одной книге к другой: от исследования чистых дискурсивных практик («История безумия») – к анализу «составляющих для них задний план практик социальных» («Надзирать и наказывать»); «Воля к знанию» – «книга, напрямую связанная с «Надзирать и наказывать»»[40]. Задача Делеза, которого иногда называют учеником Фуко[41], состоит в другом: он пытается упорядочивать фукианские понятия согласно привнесенной извне модели. Ей в данном случае выступает модель топологическая. Делез навязывает Фуко топологические операции, переинтерпретируя его концепцию субъективности в пользу своей собственной теории складки[42].
Бодрийар ставил себе целью опровергнуть Фуко: активно применяя оппозицию реальное-воображаемое и основанное на ней понятие симулякра, он сводит позицию Фуко к архаической (его главная претензия, состоит в том, что археология знания не учитывает существования симулятивных механизмов власти) и определяет Фуко-мыслителя как «динозавра классической эпохи», заложника того самого материала, который он анализирует, и поэтому считает его неспособным осмыслить радикальные изменения, произошедшие с момента окончания «классики» и наступления эпохи модерна. Статья Деррида может быть сравнима с работой Бодрийара именно по своему пафосу опровержения и выявления противоречий в концепции Фуко. Однако, на наш взгляд, среди работ, посвященных критике археологии знания, критика Деррида ближе всего стоит к той критике, которую адресовал Фуко Хабермас.
Эти две критики, ставящие себе разные цели и располагающиеся в рамках различных концепций, тем не менее, похожим образом вписываются в рамки двух распространенных моделей интерпретации «Истории безумия»:
- Романтической (базирующейся на критике разума в виде рассудка, очищенного от своего другого (неразумия), и ссылках на опыт искусства как область, где безумие может высказать собственную истину на своем языке).
- Антипсихиатрической (основывающейся на понятии «Великого заточения» (Le grand renfermement), вводимом Фуко для описания суммы практик, направленных на безумие)[43].

В своей работе «Философский дискурс о модерне»[44], являющейся сборником лекций, Хабермас посвятил анализу концепции Фуко две из них – «Критика разума и разоблачение наук о человеке: Фуко» и «Апории теории власти». Анализ «Истории безумия» занимает в них не очень большое место – всего 10 страниц в первой лекции «Критика разума…»[45]. Поэтому может показаться, что рассматривать этот небольшой экскурс в качестве модели определенной интерпретативной стратегии было бы слишком поспешным решением. Однако мы увидим, насколько этому экскурсу присуща именно определенная стратегическая направленность и насколько органично своим выделением определенных положений «Истории безумия» и их определенной организацией анализ Хабермаса вписывается в рамки указанных моделей.
Вот тезисы, предложенные Хабермасом в качестве ключевых для понимания «Истории безумия»:
А) Первое фундаментальное положение, которое определяет основу интерпретации Хабермаса: «История безумия» – это «история границ <…>, с помощью которых культура отклоняет то, что считает лежащим за своими пределами»[46]. Выделение в качестве ключевого термина понятия «граница» приводит Хабермаса к выдвижению ряда тезисов, определяющих «Историю безумия» в рамках романтической модели интерпретации: так, он полагает, что Фуко «ставит сумасшествие в один ряд с пограничными переживаниями, в которых отражается противостояние западного Логоса и гетерогенного», а безумие значимо для него постольку, поскольку оно преодолевает эти границы.
Определив таким образом смысл безумия, Хабермас выстраивает нечто вроде генеалогии проекта Фуко: «соприкосновение с восточным миром и погружение в него (Шопенгауэр)», «открытие трагического и архаического (Ницше)», «вторжение в сферу сновидений (Фрейд) и архаических запретов (Батай)», «экзотизм, подпитываемый антропологическими изысканиями».
В) Второе фундаментальное положение: «Фуко видит за созданным психиатрами феноменом душевной болезни, разнообразными масками безумия вообще <…> проявление аутентичного». Оно определяет место интерпретации Хабермаса в рамках антипсихиатрической модели интерпретации.
Соответственно, ключевым мотивом «Истории безумия», согласно Хабермасу, следует считать специфическую критику разума, особый герменевтический проект, который «расшифровывает в сказанном несказанное», и задача которого состоит в том, чтобы «в истории возникновения инструментального разума найти момент первоначальной узурпации и отделения монадически самообосновавшегося разума от мимесиса и определить этот момент – хотя бы апоретически».
Исходя из того, что «История безумия» настолько тесно связывается, с одной стороны, с романтическим, с другой – с герменевтическим проектами, Хабермас усматривает существенное изменение, произошедшее в концепции Фуко, начиная с книги «Рождение клиники». В этот период Фуко, согласно Хабермасу, отказывается от поиска аутентичного (т.е. от романтизма) в пользу поиска функциональных элементов системы и от анализа внутреннего содержания и интенции выказывания (т.е. от герменевтики) в пользу анализа различия между высказываниями. «Теперь за дискурсом о безумии он ищет уже не само безумие, за археологией врачебного взгляда – уже не немой контакт с телом, который предшествует любому дискурсу. В отличие от Батая, он отказывается от эвокативного доступа к исключенному и объявленному вне закона – гетерогенные элементы больше ничего не обещают». Интерпретацию Деррида подробно мы будем рассматривать чуть позже. Сейчас мы только отметим те ее моменты, в которых проявляется ее схожесть с интерпретацией Хабермаса.
Деррида видит в замысле Фуко попытку «обличить» классическую эпоху в насилии над безумием и, одновременно, найти и восстановить в правах аутентичную форму «безумия как такового». Ядро возражения Деррида состоит в следующем: если Фуко видит особенность классической эпохи в установлении дискурсивной формации «безумие», и при этом допускает возможность существования некоего опыта, который не охватывался бы никакой дискурсивной формой (в частности формой классического рационализма), можно предположить, что он допускает существование «безумия» «как такового», вне дискурсивной формации. В рамках концепции критики европейской метафизики, которая является центральной в книге «Письмо и различие», такое допущение представляется метафизической гипотезой, вносящей глубокое противоречие в саму концепцию Фуко. Отсюда следует упрек в том, что Фуко говорит от имени некоего безумия, пытается найти позицию, «инстанцию речи», которая располагалась бы вне дискурса классической эпохи, и намекает на то, что в этих поисках аутентичного безумия нужно все больше дистанцироваться от рационалистического и психиатрического дискурсов и обращаться, в первую очередь, например, к опыту греческой «хюбрис» (υβρις) или опыту искусства, представленному творчеством Ван Гога, Нерваля и Арто. Основываясь на сделанном в «Истории безумия» высказывании о том, что «история безумия» – это «археология молчания», а также тезисе Фуко, что «голос разума основан на молчании безумия», Деррида усматривает в такой постановке задачи гегельянский замысел, находящийся, по его мнению, в основании концепции «истории безумия»: вскрыть негативную основу позитивного и показать их взаимозависимость.
Если анализировать проект Фуко под несколько иным углом зрения, заданным им самим (в упомянутой выше беседе «Забота об истине») через различие безумия-для-других (безумия как дискурсивной формации) и безумия-для-себя (безумия как опыта), можно бы было смоделировать предположительный ответ Фуко на эту интерпретацию Деррида: негативное для Фуко – это само молчание, а не «безумие». Негативность самого безумия – производная от его существования в качестве дискурсивной формации. Значением негативного безумие наделяется в ходе определенных практик, смыслом которых не является единственно заточить безумие. Точнее говоря, так прямо этот смысл не присутствует в них: для себя они ставят другие задачи (задачи «заботы», попечительства о безумии). Соответственно, и сами они не могут быть названы напрямую «репрессивными». Говорить так значило бы слишком сильно ошибаться как относительно их прямого (для себя) смысла, так и относительно смысла косвенного, заключающегося в их «репрессивном» характере. Но у «археолога» нет другого способа анализировать эпоху, кроме как через совокупности этих различных определений «для себя».

Интерпретировать безумие как негативное значит наделять его неким смыслом. Если бы Фуко где-то давал понять, что он думает, что «безумие» – это само негативное, то его проект «истории безумия» действительно был бы соразмерен «гегельянскому измерению» мысли. Тогда то сомнение, которое испытывает Деррида (разве можно знать, что есть безумие как таковое!) было бы уместно. В этом случае речь действительно бы шла, как он полагает, о возвращении негативному статуса полноправного участника процесса истории, понимаемой как история смысла[47]. Но исходная точка, собственная среда и объект «археологического» исследования не сводится к этому: безумие как негативное (заточенное безумие[48]) – это не знак, не смысл, не значение. «Тексты самоинтерпретации» подсказывают нам другой ответ и другую стратегию чтения «Истории безумия», – стратегию, которую можно назвать «симптомологической». Чуть дальше мы отдельно остановимся на том, что она собой представляет. Сейчас же следует более четко выделить то общее, что объединяет интерпретации Деррида и Хабермаса:
- Они не учитывают различие Безумия и Неразумия. Ни Деррида, ни Хабермас не тематизируют и не анализируют это различие, в их анализе нет места исследованию смысла данного различия, и в результате – различению трансцендентально-философского и археологического уровней книги Фуко.
- Этим обусловлено то, что они не придают значения сложному процессу становления безумия в качестве особого объекта и, как следствие, – сложному взаимоотношению (моментам различия и взаимосвязи) двух значительных событий в этой «истории безумия» – изоляции и клинификации. Хабермас, например, вообще отождествляет их в рамках одной процедуры. «Фуко анализирует клинификацию, представляющую душевные болезни прежде всего как медицинское явление, в качестве примера того процесса исключения, объявления вне закона и изгнания <… >« (курсив мой – Д.Г.) Предлагая рассматривать клинификацию в качестве примера исключения, Хабермас, таким образом, упускает из виду существенное изменение, произошедшее в отношении к безумию благодаря реформам Тьюка и Пинеля: клинификация, если следовать логике «Истории безумия», является не примером, а итогом процесса исключения.
- Они не учитывают различия двух уровней анализа, сосуществующих в «Истории безумия» согласно интерпретации позднего Фуко: анализа «безумия» как «явления для других» и его анализа как «опыта самого себя». Все знаки «поиска аутентичного» относятся ко второму уровню, тогда как Хабермас и Деррида рассматривают в рамках первого. «Безумие» обозначается как исключенное, не допустимое, именно на уровне «явления для других». Т.е. когда Фуко говорит о молчании безумия, о лишенности слова, он не дает сущностного определения безумия самого по себе (безумия как такового), он только указывает на отсутствие в поле высказываний о «безумии» самого «безумия», на невозможность «безумного» сделать автореферентное высказывание.
Попробуем совместить этот уровень анализа дискурсов о безумии (который и является «археологией молчания») с «самоинтерпретацией» позднего Фуко, заключающейся в различении двух уровней «опыта». Вывод, который следует из подобного совмещения, серьезно нарушает порядок аргументации как Дерррида, так и Хабермаса: в «Истории безумия» Фуко не просто искал «безумие как таковое» или само «аутентичное» (как интерпретируют проект «археологии молчания», соответственно, Деррида и Хабермас), он указывал на определенную организацию опыта «себя как безумного» через определенные механизмы управления. Если в намерениях Фуко и было указать своей книгой на возможность обнаружить какую-то позитивную истину безумия, то это обнаружение должно было бы состояться благодаря медленному и кропотливому изменению в организации практик отношения к безумию (именно практик, а не только теории[49]), а не в некотором спонтанном преодолении установленной границы[50], не благодаря некоему «прорыву» (как полагает Хабермас). И тем более это обнаружение не ограничивалось бы только возвращением к «общему истоку Разума и Безумия» (как полагает Деррида).
В основании тех выводов, которые делают в своих в определенной степени схожих интерпретациях Деррида и Хабермас, лежит, прежде всего, то, что они рассматривают понятия «безумие» и «неразумие» только на уровне философско-трансцедентального анализа, игнорируя собственно «археологическое» измерение данной книги. В анализе как Хабермаса, так и Деррида «безумие» и «неразумие» неявно отождествляются и рассматриваются как один общий знак понятия Другого. В результате метод Фуко оказывается структуралистским: исключение безумия становится одним из возможных вариантов внутри более обширной структуры понимания Другого, свойственного европейской культуре.
Мы уже указывали, насколько серьезной задачей для Фуко представлялась необходимость дистанцироваться от структуралистского метода. Эта значительная тема выходит за пределы нашего исследования. Однако необходимо указать на фундаментальное отличие «археологического» анализа от анализа структуралистского. Представляется, проанализировать это отличие более всего помогает идея генеалогии власти. Фуко очень часто в своих интервью говорил о том, что у него нет метода в собственном смысле этого слова[51]. Однако можно утверждать, что генеалогия власти и была тем подобием метода, который позволял Фуко достаточно отчетливо выстраивать свою оригинальную концепцию археологии знания. Нужно обратить внимание на одну мысль, высказанную в «Истории безумия»: медицина, которая, в конце концов, присвоила себе истину безумия, не является автономным производителем этой истины. Такова фундаментальная истина эпохи, которая, однако, не совпадает с тем, что представлено как истина внутри эпохи: это та истина, которая открывается только благодаря генеалогии власти. В этом положении, или, если можно так выразиться, этой истине «Истории безумия», мы имеем первое отражение того изменения, которое производят исследования Фуко в представлении о соотношении знания и истины. Если традиционно оно сводится к идее о том, что истина производится знанием, то генеалогия власти вскрывает гораздо более неоднозначную динамику: значимая для той или иной эпохи истина располагается не только в измерении знания, но производится в отличных от знания областях, и существуют сложные процессы образования истины по ту сторону знания и проникновения ее уже непосредственно в саму эту сферу. Генеалогия власти далека от того, чтобы довольствоваться простой констатацией. Она в первую очередь обнажает процедуры, с помощью которых устанавливается та или иная истина. Определяя направленность своего анализа, Фуко однажды сказал, что археология знания ставит диагноз. Это предполагает, что в процессе аналитической работы учитываются многочисленные «микроскопические» элементы, из которых складывается та или иная истина.
Для описания метода генеалогии власти в контексте задачи различить «археологический» и «структуралистский» подходы можно воспользоваться понятием «симптом»: оно позволяет описать сотношение анализируемого материала (в данном случае – некоторых исторических событий) и обнаруживаемого исследователем его смысла иначе, чем это можно бы было сделать, воспользовавшись структуралистским понятием знака.
Знак понимается через установление отношений между означающим и означаемым. Он референциально отсылает к означающему, а оно, в свою очередь, – к означаемому как основе всех значений, которые являются объектом знания. На двух полюсах этой структуры располагаются два единства – единство знака и единство «означаемого», реальности. Они являются той исходной простотой смысла, которая позволяет, в конце концов, прийти к некоторому однозначно представимому «положению вещей». Вся же сложность игры, или процесса интерпретации, исходит от означающего, потому что именно на его понимании строится основная «смысловая конструкция». При этом аксиомой «знаковой» стратегии является тезис, что означающее принципиально организовано подобно языку, оно структурировано подобно языку (вот почему структурализм следует изначально рассматривать в рамках определенных лингвистических концепций, даже если предметом структуралистского анализа являются другие объекты, не сводимые однозначно к языковым). Фундаментальной же чертой языка как такового признается его способность воспроизводить различные смыслы в повторяющихся, устойчивых образованиях – парадигмах (морфемах, фонемах). Таким образом, фундаментальным условием правильного восприятия, «усвоения» языка является владение этими абстрактными формами, которые варьируются от одного языка к другому, в определенном же языке обладают ничем (кроме разве сюрреалистических языковых экспериментов) не поколебимой устойчивостью. Значит, в означающем, какая бы множественность значений или смыслов за ним ни скрывалась, также присутствует единство, доступное простому представлению (его другое имя – «очевидность»). Оно даже является ключевым для правильного восприятия других – стоящих как бы на полюсах структуры – двух единств: единства знака и единства означаемого. Сложная взаимосвязь этих единств образует некую систему простых наличий, стоящих за всеми возможными переплетениями различных смыслов и являющихся для них незримым, но всегда присутствующим фундаментом.
Подобной структуралистской интерпретативной стратегии противостоит стратегия, которую можно бы было назвать «симптомологической», которой в определенной степени причастен метод генеалогии власти. Основное ее отличие состоит в том, что интерпретация и понимание одного элемента не может обойтись наличием единства, оно не может не учитывать в первую очередь его сцепленность с другим элементом, а не с тем, что является для них общим инвариантом. Однако эта «сцепленность» совершенно особого рода, ее нельзя понимать по принципу причинной связи – как прямую взаимообусловленность элементов или как их сцепленность на основе более крупного образования, каковым является общая для элементов структура. Это значит, что речь не идет об элементах одного порядка, однородных элементах. Семиологическая интерпретация оперирует только гомогенными элементами исходит из допущения их однородности. Поэтому смысл устанавливается через принадлежность элементов общему пространству, в котором система простых единств образует некое подобие и фактически выполняет функцию системы координат. Симптомологическую интерпретацию отличает изначальное недоверие смыслам, получаемым внутри гомогенных образований, – она занимается гетерогенными элементами, так как между симптомами не существует однозначной и абсолютно очевидной связи. Для семиологии смысл образуется через систему наличий, для симптомологии – через систему лакун, умолчаний, провалов, зияний.
Примеры симптомов в некоторых исследованиях Фуко:
- В «Истории безумия» красной нитью проходит мысль о том, что классической эпохе свойственно странное несоответствие между двумя сферами существования безумия – практической и теоретической.
- В исследовании «технологии индивидов» Фуко отмечает несоответствие между коллективными бойнями и программами социальной защиты индивида. «Сосуществование в недрах политических структур громадных машин уничтожения и учреждений, предназначенных для защиты индивидуальной жизни, сбивает с толку и заслуживает какого-то исследования. Это одна из антиномий нашего политического разума»[52].
- В исследовании сексуальности в зарождающемся буржуазном обществе Фуко указывает на то, что существует некоторое противоречие между ограничениями, накладываемыми на проявления сексуальности в социальной жизни[53] и побуждением к выражению любых, самых запретных проявлений сексуальности в определенной сфере индивидуального существования (в рамках практики «признания»).
В этих примерах мы имеем дело с анализом, движущей силой которого является отсутствие очевидной связи. Именно отсутствие взывает к интерпретации. Парадоксальная задача, которую ставит перед собой подобный анализ, состоит в прояснении смысла отсутствия! Возражение, которое он мог бы встретить, можно сформулировать примерно следующим образом: не обрекает ли себя исследователь на бесплодный поиск и на ложные интерпретации, поскольку пытается найти объяснение, сопоставляя явления, принадлежащие принципиально различным полям. Ведь «практика изоляции» и связанная с ней история декретов и учреждений, призванных определить социальное положение «безумия», является частью истории развития социальных институций, тогда как теоретическое осмысление феномена психических отклонений образует совсем другую историю – историю психиатрии как части более общей истории медицинской теории.
Так же как и во втором случае, существование и использование «машин уничтожения» относится к области истории стратегических международных отношений – истории войн и договоров, в то время как развитие программ социальной защиты населения является элементом истории становления демократического общества.
Но в этом сведении гетерогенных элементов в одном поле проблематизации и состоит специфика исторической работы Фуко. Его метод не признает, что смысл уже явлен в этих «бесспорных» исторических очевидностях, таких как международные конфликты, социальные институты и т.п.
Денис Голобородько
[1] Тем не менее, момент неопределенности все же присутствует: авторы словаря Robert замечают, что «в современной психиатрии говорят о психической болезни или умственных нарушениях».
[2] Его основное словарное значение – «безрассудство».
[3] См. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. С. 258.
[4] Там же. С. 169.
[5] Этим можно объяснить то, что Деррида в своей интерпретации выделяет «гегелевское измерение» книги Фуко (см.: Деррида Ж. Письмо и различие. С. 49–50, 57–58).
[6] Foucault M. L’archéologie du savoir. P. 26 –27. (пер. наш – Д.Г.)
[7] О том значении, которое эта задача имела для Фуко, см. главу «Прощай структурализм» в книге Бланшо (Бланшо М. Мишель Фуко, каким я его себе представляю. С. 15–19).
[8] На несовпадение этих двух понятий обращало внимание не так много исследователей творчества Фуко. Различие в существующих интерпретациях «Истории безумия» определяются следующим фактом: придается или нет значение их нетождественности.
[9] Бланшо М. Мишель Фуко, каким я его себе представляю. С. 61.
[10] Стоит обратить внимание, что это именно «пространство». Им разделяются две отдельные сущности, между которыми, таким образом, устанавливается внешнее различие.
[11]В книге Фуко приведены характерные перечисления, свидетельствующие о подобном смешении: «развратник», «слабоумный», «мот», «калека», «помешанный в уме», «вольнодумец», «неблагодарный сын», «отец-расточитель», «проститутка», «умалишенный» (см. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. С. 97).
[12] Бланшо М. Мишель Фуко, каким я его себе представляю. С. 71–72.
[13] Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. С. 313. (курсив мой – Д.Г.)
[14] Фуко М. Интеллектуалы и власть. Т. 1. С. 282. (курсив мой – Д.Г.)
[15] Чуть позже мы еще вернемся к этому очень важному положению, которое можно рассматривать как один из примеров генеалогии власти.
[16] Фуко М. История безумия в классическую эпоху. С. 419.
[17] Там же. С. 96.
[18] Там же. С. 97.
[19] Там же. С. 128.
[20] Там же. С. 189.
[21] Она представляет собой одновременно вывод, который Фуко делает на определенном этапе своего исследования, и проект, который лежит в основании замысла книги в целом.
[22] Фуко М. История безумия в классическую эпоху. С. 183. (курсив мой – Д.Г.)
[23] Представление о том, какое место это понятие занимает в его творчестве, можно составить на основе его инагурационной лекции «Порядок дискурса» (см.: Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. С. 46–96). Многие исследователи творчества Фуко признают эту лекцию одной из его программных работ (см., напр.: Там же. С. 344). Большая ее часть посвящена исключению и его различным типам.
[24] Подорога говорит о работах Фуко как об анализе «становления европейских институтов исключения (практикующих различие между психическим заболеванием и нормой здоровья, или между преступным и законопослушным поведением, перверсией и общепринятыми правилами сексуального поведения)»; понятие исключения у Фуко он рассматривает в рамках анализа понятия Другого, а точнее – в рамках исследования «постструктуралистского анализа темы Другого» (см.: Подорога В.А. Словарь аналитической антропологии. С. 47). В близком ключе построена работа Рыклина (см.: Рыклин М.К. Сексуальность и власть: антирепрессивная гипотеза Мишеля Фуко), в которой проблема исключения рассматривается в том виде, какой она приобрела в поздних работах Фуко. На ключевое значение проблемы исключения для всего творчества Фуко указывает также и Ильин (см.: Ильин И.П. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. С. 77–78). Он также говорит о связи этого мотива в творчестве Фуко с «общим местом всего современного западного «философствования о человеке», <…> получившего особое распространение в рамках постструктуралистских теоретических представлений», каковым он признает тему Другого. Однако подобная интерпретация дает ограниченное психологистическое толкование этой темы, сводя Другого к «Другому в человеке», и не учитывает того факта, что в рамках «постструктуралистских теорий» вообще и в концепции Фуко, в частности, она имеет, прежде всего, социополитический генезис.
[25] Наш выбор обусловлен тем, что «исключение» по отношению к остальным играет роль «порождающего понятия». В чем именно состоит приоритет понятия исключения, мы скажем немного позже.
[26] Понятие «исключения» является базовым структурным элементом книги Фуко. На это обращают внимание американские исследователи творчества Фуко Дрейфус и Рабинов: «С первых страниц “История безумия в классическую эпоху” вводит эти две параллельные темы – географического исключения и культурной интеграции, – темы, которые структурируют совокупность книги» (см.: Dreyfus H., Rabinow P. Michel Foucault. Un parcours philosophique. Au-delа de l’objectivité et de la subjectivité. P. 18. (курсив мой – Д.Г.)).
[27] Здесь уместно вернуться к приоритетной роли, которую играет понятие исключения в понятийной конструкции «Истории безумия». Рассмотрим первое отношение – «исключение»-«объективация»: операция исключения делает возможным отношение к опыту неразумия как к объекту, т.е. ей «безумие», собственно, и создается как таковое (т.к. неразумие как объект – это «безумие»). Это значит, что в измерении своего антропологического генезиса «безумие» тождественно исключенному.
Второе отношение – «объективация»-«молчание»: молчание является атрибутом «безумия» в той мере, в какой «безумие» является объектом. Поскольку «безумие» не является «субъектом» (им было неразумие, но оно исчезает), постольку «речь» (возможность участвовать в процессе образования истины) не рассматривается среди его возможных атрибутов. «Безумие лишили языка», как говорит Фуко.
[28] Нужно сказать, что он к тому времени уже являлся одним из «столпов» французской Академии и еще в 1966 году внес имя Фуко в качестве кандидата на должность преподавателя Коллежа.
[29] См.: Nemo P. Le poivoir pris en flagrant delit par Foucault. // Les Nouvelles littaireres. № 2515, 8-15 janvier 1976. P. 6-7.
[30] См. например: «Power and Norme. Notes» – выдержки из курса 1972-73 года «Общество наказания», опубликовано в: Michel Foucault. Power, Truth, Strategy. Sydney, Feral, 1979. P. 59-66, а также: «Vorlesungen zur Analyse der Macht-Mechanismen: das Denken des Staates» – выдержки из курса 1977-78 года «Безопасность, территория, население», опубликовано в: Michel Foucault. Der Staub und die Wolke. Bremen, Verlag Impulse. 1982. S. 1-44.
[31] Институт мемориального книгоиздания и печати (Institut Mémoires de l’édition contemporaine).
[32] В завершении первой лекции Фуко говорит: «Возникновение власти нормализации, то, каким образом она сложилась, то, каким образом она сумела установиться, никогда не опираясь на один-единственный институт, но втягивая в игру различные институты, и то, каким образом она распространила в нашем обществе свое господство, – вот что я хочу разработать». Французский издатель лекций снабдил последние слова этой фразы примечанием: «В подготовительной рукописи к лекции: «археологию этого я и хотел бы создать»». См.: Foucault M. Les anormaux. P. 24 (пер., исправленный нами. Ср.: Фуко М. Ненормальные. М., 2004. С. 48).
[33]См. Фуко М. Ненормальные. С. 26. Как поясняет французский издатель «Les anormaux», когда Фуко зачитывал фрагменты из отчетов судмедэкспертов, аудитория часто сопровождала этот процесс смехом.
[34] См.: Там же. С. 32–35.
[35] Foucault M. Resumé des cours. P., 1989. P. 73–81.
[36] Там же. P. 73.
[37] Фуко М. Ненормальные. С. 79.
[38] Foucault M. Resumé des cours. P. 75.
[39] Foucault M. Les anormaux. P. 56.
[40] Бланшо М. Мишель Фуко, каким я его себе представляю. С. 28, 39.
[41]Отношения их концепций заслуживают отдельного анализа. Со стороны Делеза заметно желание обозначить отношения непосредственной преемственности, со стороны Фуко – при всем демонстрируемом уважении (интонацией уважения, если не сказать восхищения, отмечено, например, предисловие к книге Делеза-Гваттари «Капитализм и шизофрения») – устанавливается определенная дистанция (чего не учитывает Бодрийар, который рассматривает отношение концепции желания Делеза и концепции власти Фуко скорее в делезианской перспективе).
[42] Критический анализ именно такого – основанного на топологии – подхода к творчеству Фуко можно найти в работе: Подорога В.А. Навязчивость взгляда. Мишель Фуко и живопись.
[43] В качестве яркого примера антипсихиатрической интерпретации можно привести так называемый «Трибунал Фуко» (см.: http://www.foucault.de).
[44] См.: Habermas J. Der philosophische Diskurs der Moderne. Frankfurt, 1985. (Рус пер.: Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М., 2003.)
[45] Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. С. 249–258.
[46] Нужно отметить, что Бланшо также предлагает рассматривать именно этот тезис «Истории безумия» в качестве формулировки замысла этой книги (см.: Бланшо М. Мишель Фуко, каким я его себе представляю. С. 61).
[47] Это не сводится к интеллектуальному жесту простой смены знака. Деррида все же не может быть однозначно причислен к тем интерпретаторам, которые существенно упрощают замысел «Истории безумия», усматривая в ней попытку поменять минус на плюс.
[48] «Безумие» не существует вне заточения – такова обнаруживаемая «археологическим» исследованием фундаментальная истина классической эпохи. «Молчание» безумия означает не то, как интерпретирует этот тезис Деррида, что само безумие есть молчание, а только то, что существование «безумия» в классическую эпоху неотделимо от тех обличий, в каких оно представало внутри практик – дискурсивных или недискурсивных.
[49] Здесь уместно будет вспомнить о значении психоанализа в «истории безумия»: именно практическая ограниченность психоанализа жесткой структурой Врач–Пациент, заимствованной из классического опыта, ограничила, согласно Фуко, теоретический прорыв и переворот, совершенный психоанализом в сфере анализа происхождения психических отклонений.
Возможно в этой «практической» заостренности мысли раннего Фуко проявляется сильное влияние, оказанное на него Л. Альтюссером и его концепцией «идеологических аппаратов». Этот мотив, однако, выходит далеко за пределы нашей темы, и мы можем лишь отослать к известным нам биографическим источникам, свидетельствующим о значительном воздействии, которое оказывал на молодого Фуко Л. Альтюссер (см.: Foucault M. Dits et écrits. P. 17–21).
[50] Фуко как раз показывает, что граница, установленная разумом и создает «форму», внутри которой становится возможно «безумие», и преодоление этой границы не означает «трансформацию».
[51] См. напр.: Фуко М. Интеллектуалы и власть. Т.1. С. 285–286.
[52] Там же. С. 363. (курсив мой – Д.Г.)
[53] Самый яркий пример, описываемый Фуко, – создание в Германии образцового учебного заведений для мальчиков, где сексуальное поведение учеников подвергалось постоянному контролю и где «грех мастурбации» был невозможен.